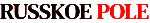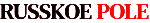Последние новости
Горький запах полыни... Об отце, детстве, войне

Родилась, выросла и большую часть жизни я прожила в родном городе моего отца – Куйбышеве, теперешней Самаре. Мой отец, Владимир Гаврилович Алексеев, был добродушным человеком, общительным, компанейским. Был пригож собою, обаятельно улыбался, нравился людям. Повсюду у него водились приятели (мать не без сарказма их называла: кунаки), некоторые – ещё с довоенных времён.
На 9-е мая встречался с уцелевшими фронтовыми товарищами-земляками, не прочь был пропустить с ними стопку-другую водки. Отчётливо помню этот день в 1965-м, когда его объявили официальным праздником – на двадцатилетие Победы. В арке, ведущей во двор, где мы играли с подружками, появился отец в компании незнакомых дяденек.
Они все были при параде и при наградах, крепко выпивши, громко и приподнято что-то обсуждали, и мне на минуту даже стало неловко перед девчонками. Когда компания приблизилась к нам, отец начал извлекать из карманов пригоршни дорогих шоколадных конфет – «Мишек на севере», «Ну-ка отними!», «Куйбышевских». Такие мы видали и едали по одной-две разве что на Новый год. И принялся раздавать их моим подружкам. Те аж глаза вытаращили: во везуха! Меня он, впрочем, тоже не обделил. Теперь с трудом верится, что тогда отцу было всего сорок два года. Мой сын – его внук - теперь старше него.

Звучит, как штамп, но отец и вправду отправился на войну со школьной скамьи. Служил в артиллерии, участвовал в освобождении Подмосковья и Запорожья, был контужен и ранен, награждён Орденом Красной Звезды и боевыми медалями, войну закончил старшим лейтенантом. Среди такого контингента – зелёных, необстрелянных и толком не обученных солдатиков - мало кто вернулся домой. Отцу повезло. О войне он рассказывал редко. И никогда – с помпой или бравадой. Мне запомнились только какие-то утилитарно-практические хитрости. Например, если над твоей головой летит вражеский самолёт, то надо не удирать от него прочь, а наоборот – бежать ему навстречу. Тогда он проскочит мимо, и разминутся твои с ним соответственные задачи: уцелеть и убить.
Меж тем, война в детстве всегда обреталась где-то рядом. Она не так уж давно закончилась. Середина и конец пятидесятых, прежде всего, отложились в памяти огромным количеством молодых калек на улицах. В основном, мужчин. Почти сплошь - слепые, однорукие, с обожжёнными лицами, с нервным тиком, на костылях, с палочками, на протезах, а самое страшное - человеческие обрубки без обеих ног, многие - в изношенных военных гимнастёрках. Инвалиды передвигались на дощечках с колёсиками из шарикоподшипников, отталкиваясь от асфальта деревянными чурочками, зажатыми в кулаках. Они и сейчас словно стоят перед моими глазами. С годами лица безногих делались всё более отрешёнными, покрывались морщинами, волосы их седели, гимнастёрки ветшали и линяли от времени, а самих их становилось всё меньше. Потом они исчезли совсем.
По радио с утра до вечера передавали фронтовые песни: «Священная война», «Тёмная ночь», «Синий платочек», «Прощайте скалистые горы» и много-много других, в исполнении Клавдии Шульженко, Марка Бернеса, Леонида Утёсова, военных ансамблей песни и пляски. Ежедневно транслировались радиопостановки или передачи про войну. В кино шли военные, как тогда говорили, «тяжёлые» картины: «Летят журавли», «Баллада о солдате», «Судьба человека», «Живые и мёртвые», «Тишина»...
Отец их смотрел, хотя отдельные с досадой и разочарованием называл лабудой, а мать – та никогда не смотрела. Ей досталось на войне с лихвой: побег через линию фронта вместе с Бабулей, из родного Ворошиловграда (Луганска), оккупированного фашистами, допрос в краснодонском гестапо по подозрению в связи с подпольщиками, бомбёжка поезда, на который им с Бабулей удалось вскочить на одном отрезке их долгого, многомесячного пути на восток. Но и наконец добравшись туда, они попали в ловушку. Перебежчиков с оккупированных территорий тогда не жаловали. Обеих тут же арестовали НКВД-шники за «пассивную измену» и заключили под стражу. Отправили в лагпункт под Орском, на работы в каменоломнях, где мать, тогда шестнадцатилетняя девочка, заболела тифом и едва выжила. Нет, она никогда не смотрела фильмов про войну – ей хватило реальности.
Позже, с появлением у нас телевизора, мать выходила из комнаты или вовсе выключала «ящик», как только с экрана начинали грохотать пальба и взрывы. Свои счёты были с войной и у Бабули. Она потеряла троих сыновей – один погиб в партизанском отряде, другой – на фронте, в регулярной армии, третий пропал без вести, сражаясь в народном ополчении.
У меня в памяти не сохранились имена дядьёв, кроме одного. Помню только, мать говорила, что тот, третий брат, старший среди них, был самым её любимым. Она называла его Сашей. Он ушёл на фронт добровольцем, хотя имел бронь по инвалидности – ослеп на один глаз, когда в него попала металлическая стружка на заводе, где дядя работал токарем до войны. Мать крепко горевала о нём. А Бабуля до конца своих дней не могла смириться с утратой детей и втайне верила, что они живы – на их могилах ей побывать не довелось.
Война смотрела со страниц книг, газет и журналов, звучала из репродуктора в городском парке – забыть, не думать о ней было невозможно. По ночам, когда в небе слышался гул низко летящего самолёта, мне живо представлялось, что вот-вот начнут бомбить. Воображение тут же услужливо рисовало картины близившегося светопреставления. Я вжималась головой в подушку, зажмуривалась, считала до ста – уф, пролетел! От этих кошмаров избавилась не раньше начала семидесятых.
Если когда-либо и лила слёзы в кино - так в той сцене в «Журавлях», где Вероника на вокзальной платформе у прибывшего поезда, не дождавшись своего погибшего возлюбленного, раздаёт цветы солдатам, вернувшимся с фронта. Война казалась мне такой близкой, что я будто бы её смутно помнила, какой-то ложной (генетической, что ли?) памятью. И даже чуяла её грозовой запах: придорожной пыли, гари, железнодорожных шпал и отчего-то – полыни.
***
В нашей семье (или вообще время было такое?) родители не особо вовлекали детей в беседы на серьёзные, неудобные или абстрактные темы, не слишком интересовались их мнением по вопросам глобального и даже бытового характера и уж, конечно, не советовались с ними по разным поводам, не делились своими проблемами. «Твой номер – восемь, когда надо – тогда спросим» - говорили нам. Или: «яйца кур не учат». Иной раз и: «без сопливых разберёмся». Откровения начались лишь несколькими десятилетиями позже – когда мне на разговоры с отцом ещё хронически не хватало времени.
В мои редкие наезды в Самару он порывался мне рассказать и о войне, и об истории нашей семьи, о чём теперь больше ни у кого не выспросишь и не узнаешь. Говорил он медленно, с расстановкой, с долгими паузами. Времени обычно было в обрез... Тогда, не дослушав, не вникнув толком в суть сказанного, и не запоминая его, я торопилась повидать друзей-подруг, беспечно откладывала серьёзные беседы с отцом на потом. А у него времени уже и вовсе не оставалось. В мае 1999-го отца не стало. И «потом» я прилетела в Самару только на его похороны.
На фото: 1. Мой папа Владимир Гаврилович Алексеев (1923 - 1999 гг); 2. Мама: Татьяна Михайловна Алексеева (Островская) (1926 - 2001 гг.); 3. Сестра Ира (Ирина Владимировна Сенченко (1949-2013 гг.)
Англия, Норфолк 2009-2017 гг.





 «Русское поле» старая версия
«Русское поле» старая версия